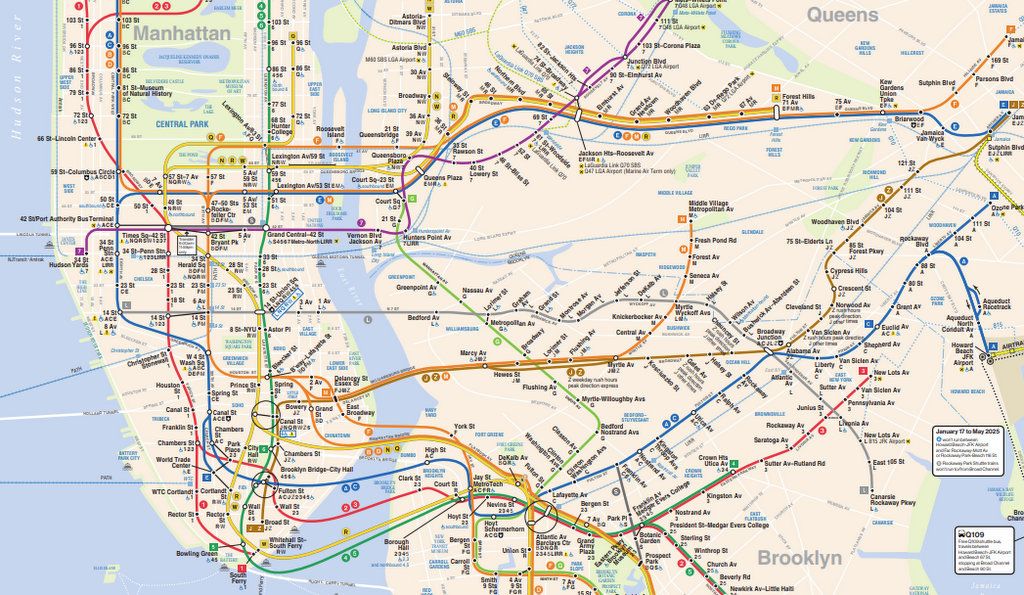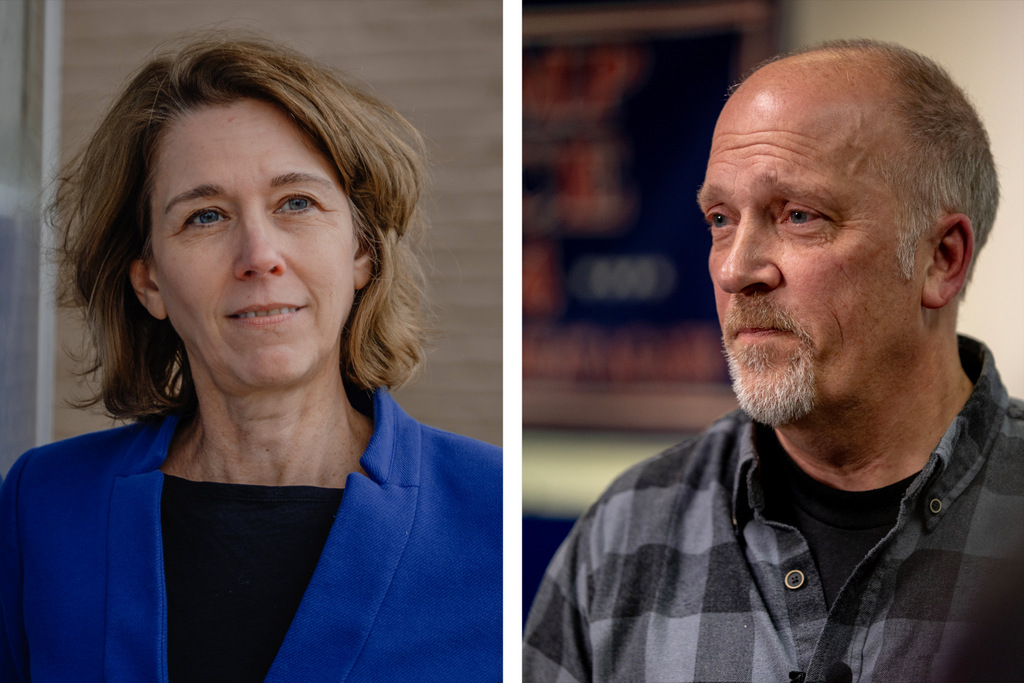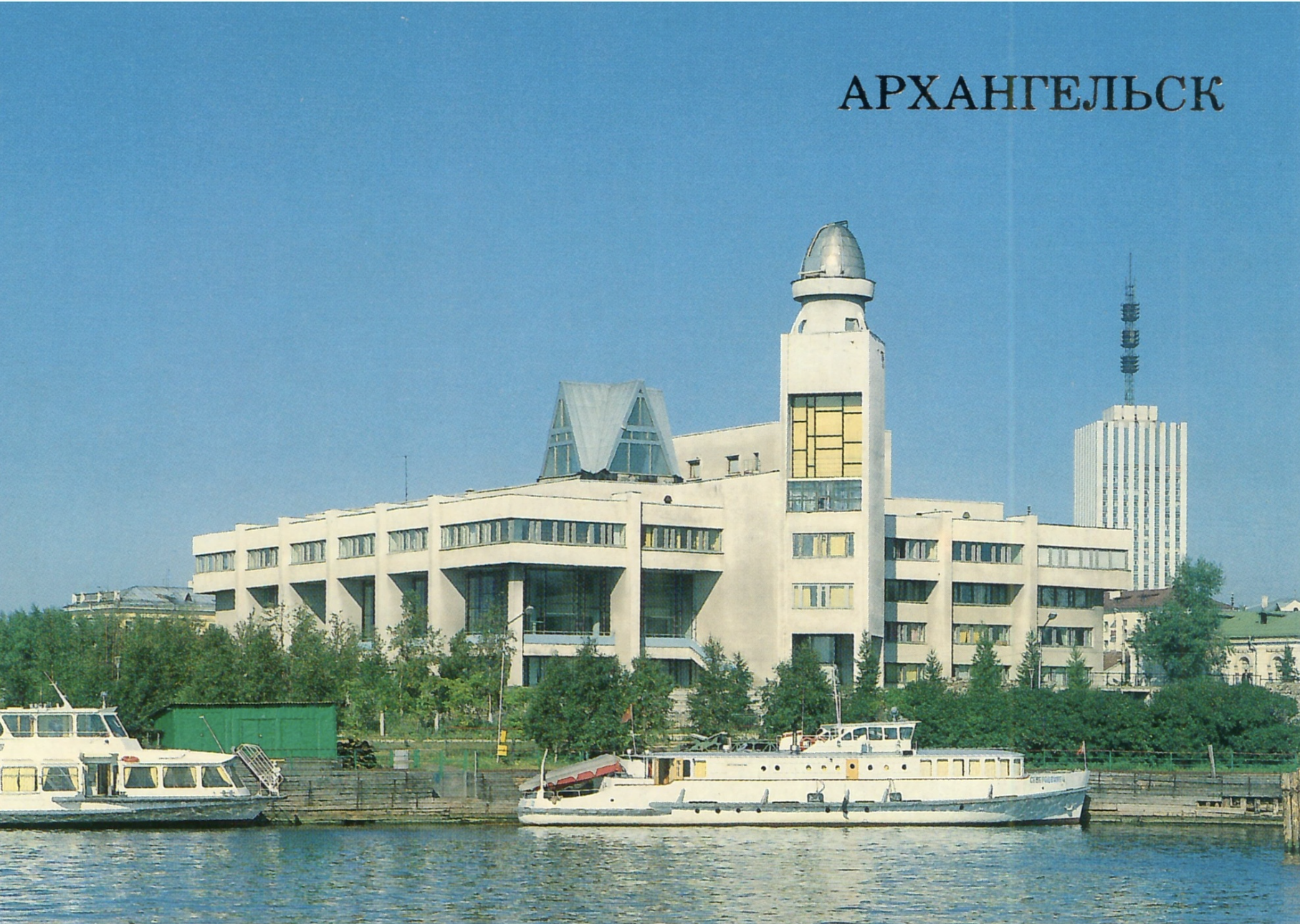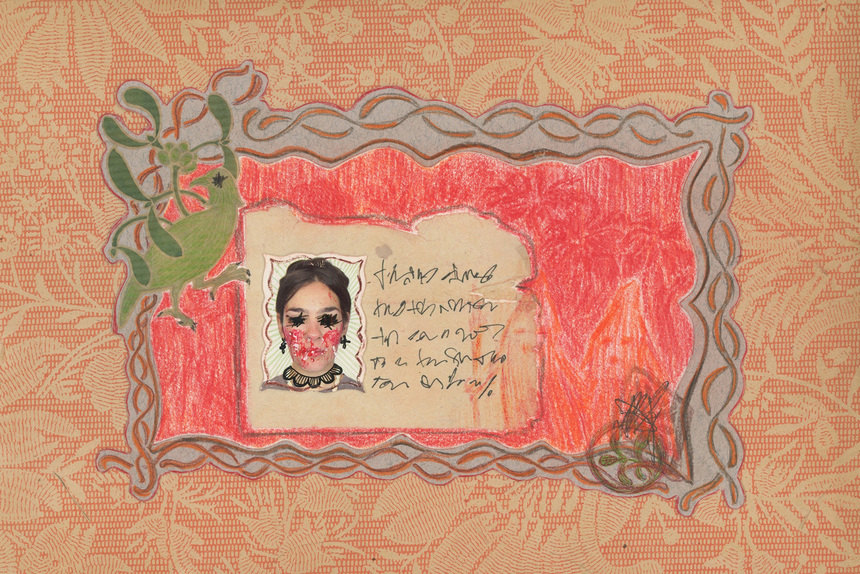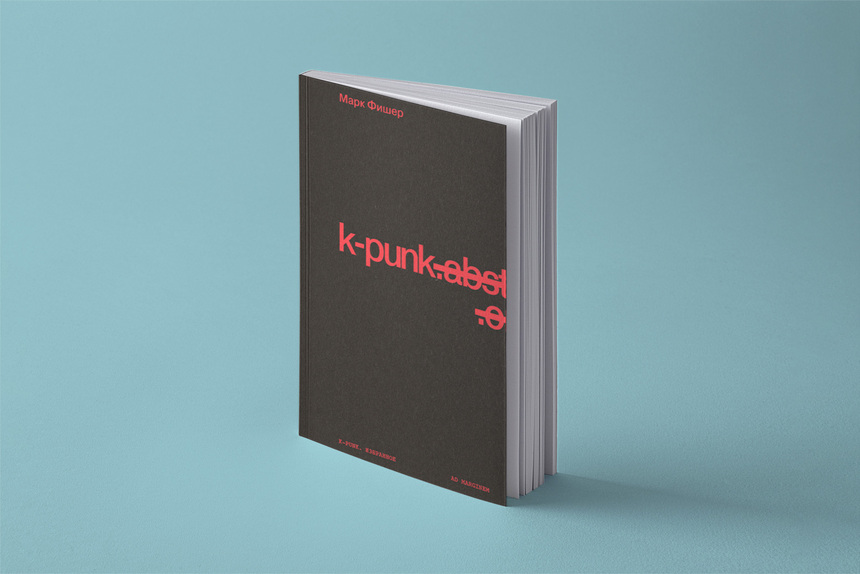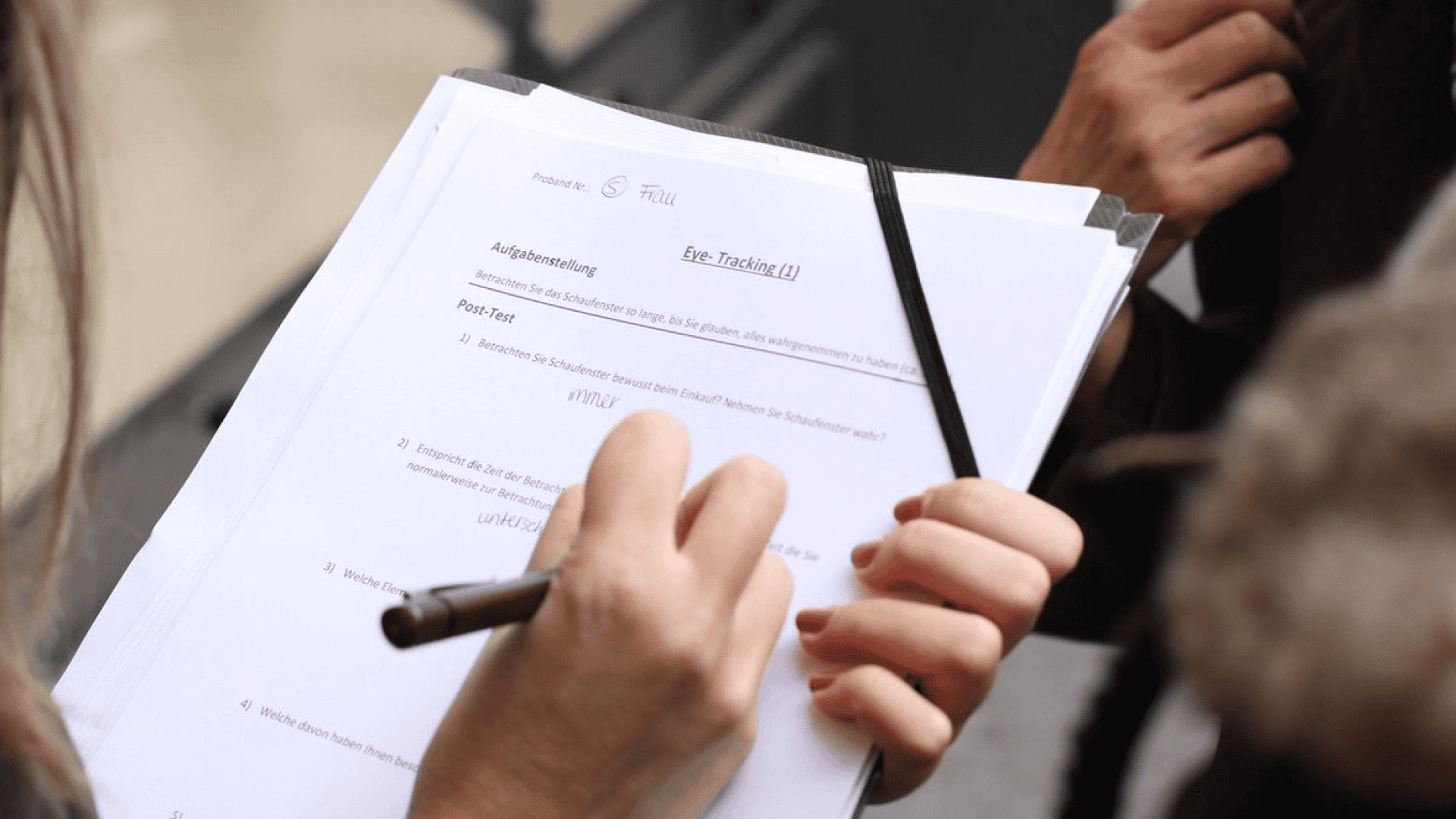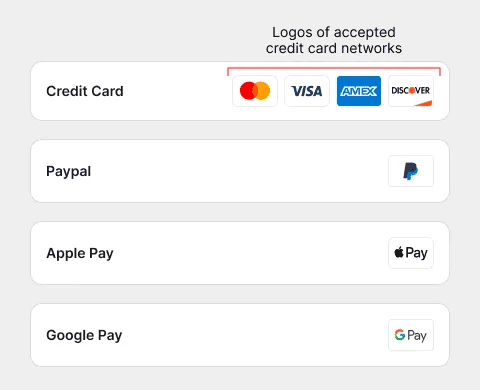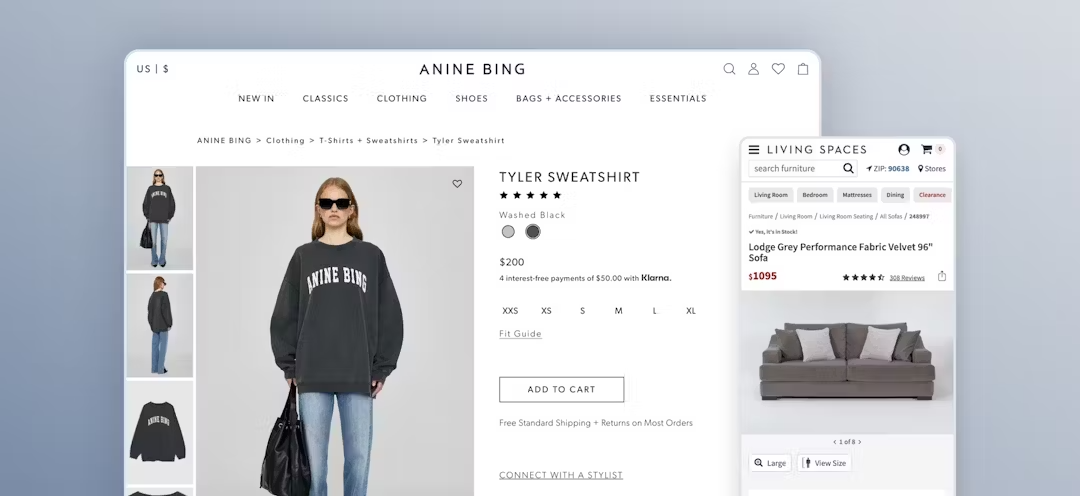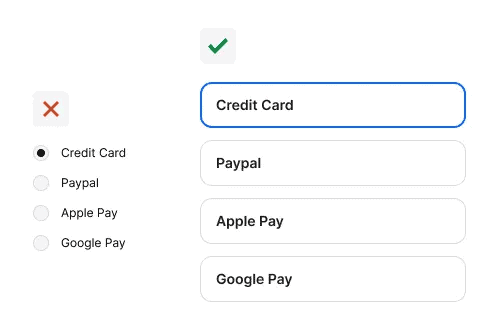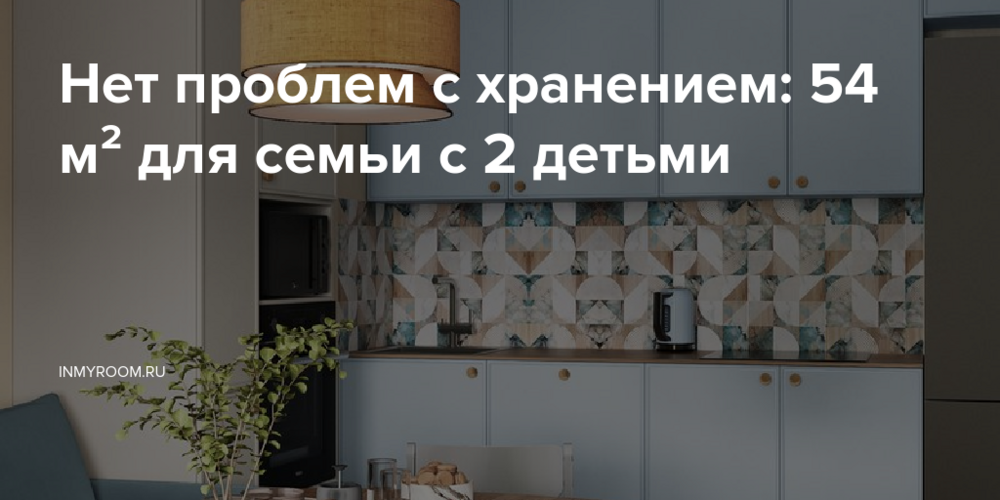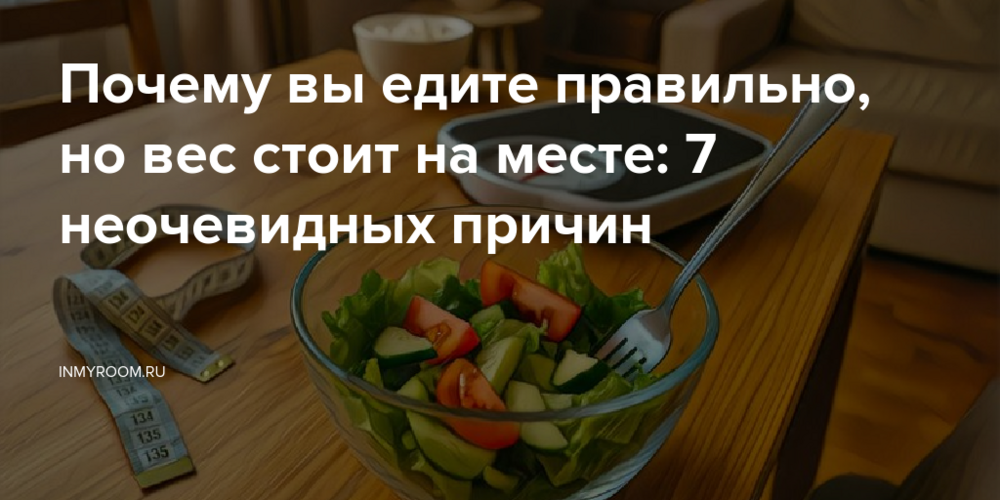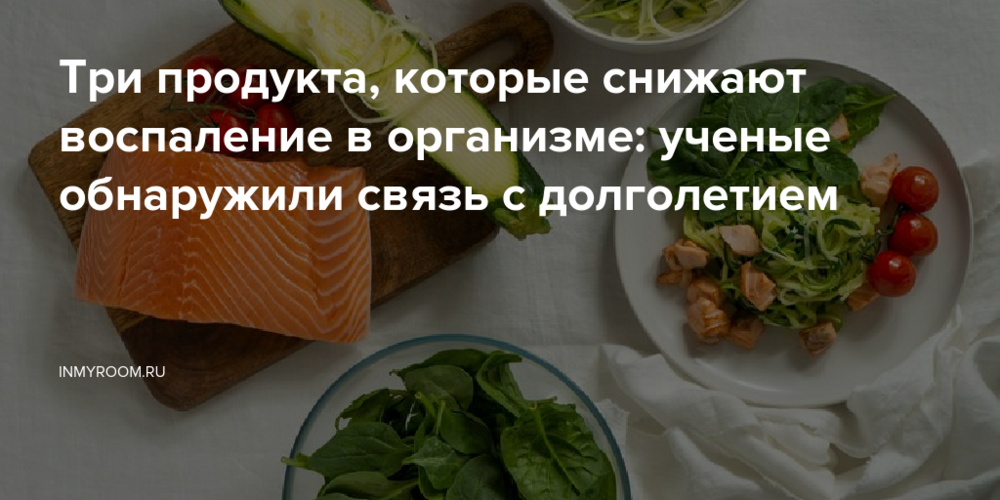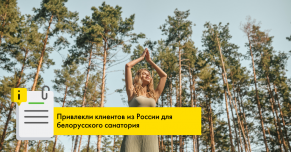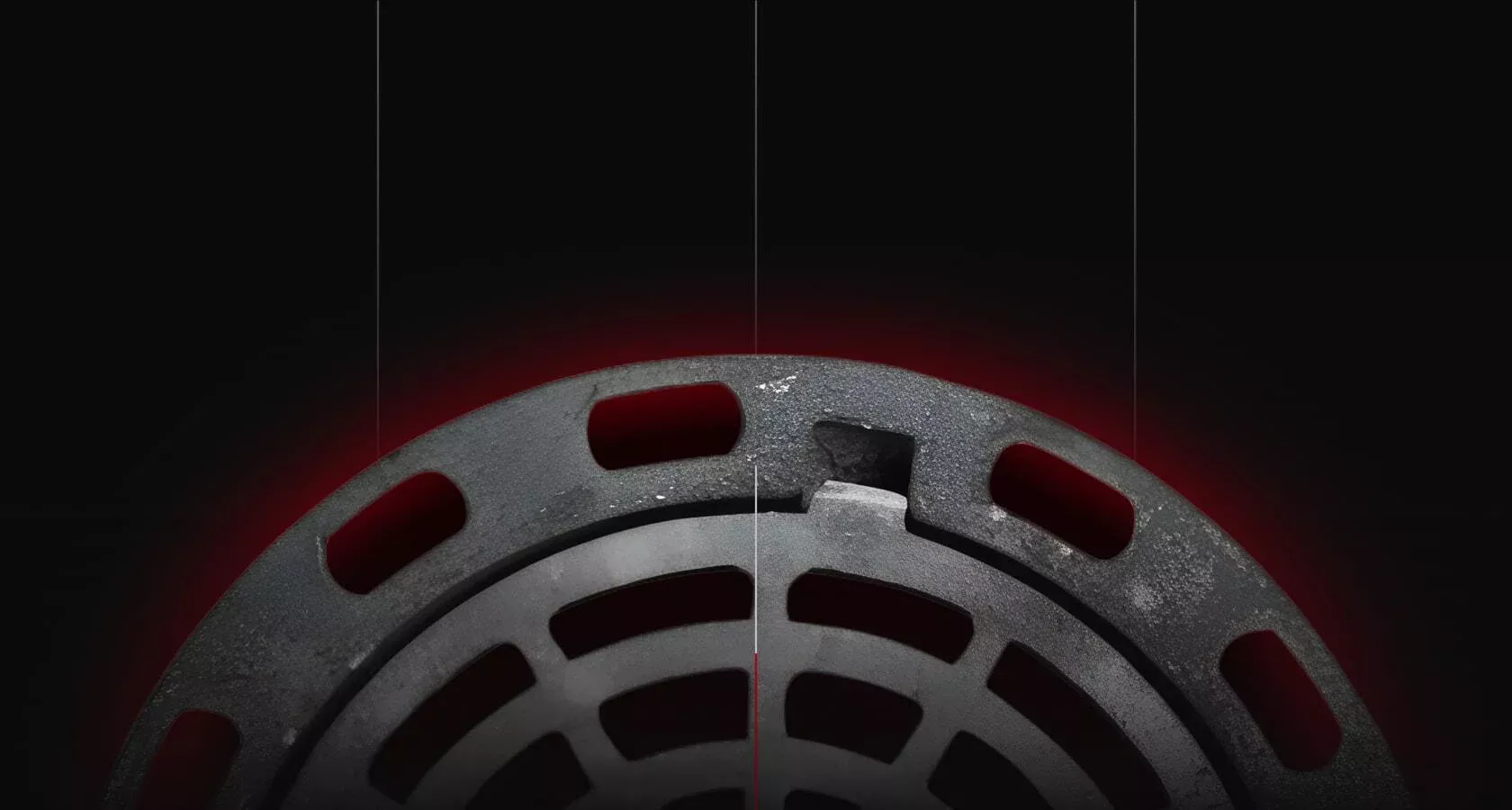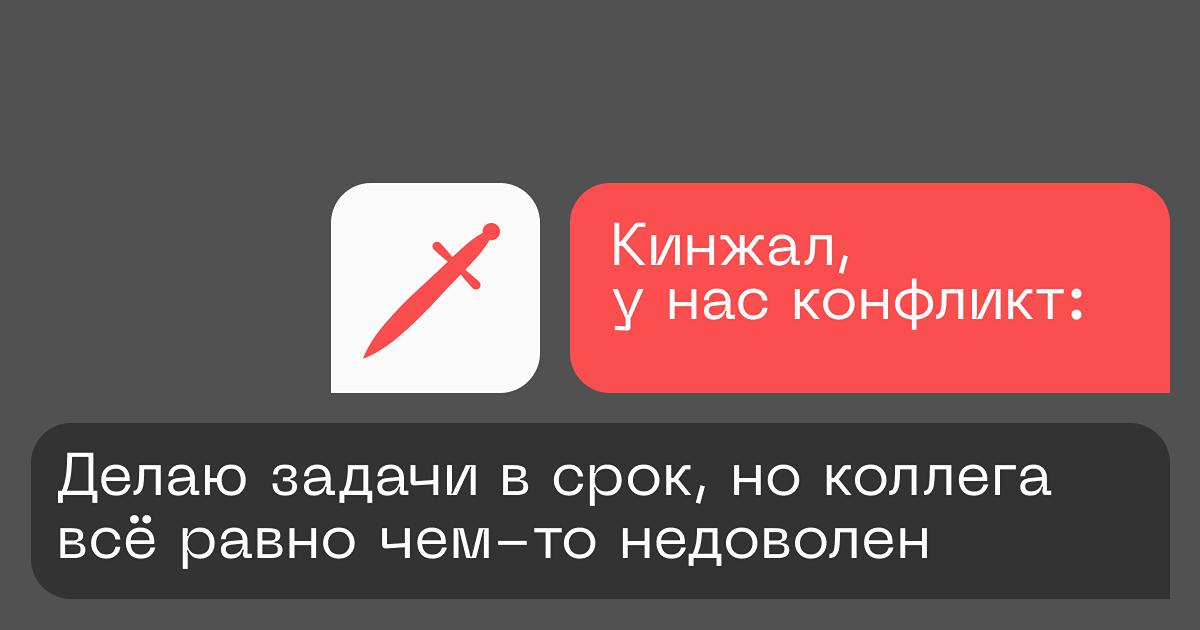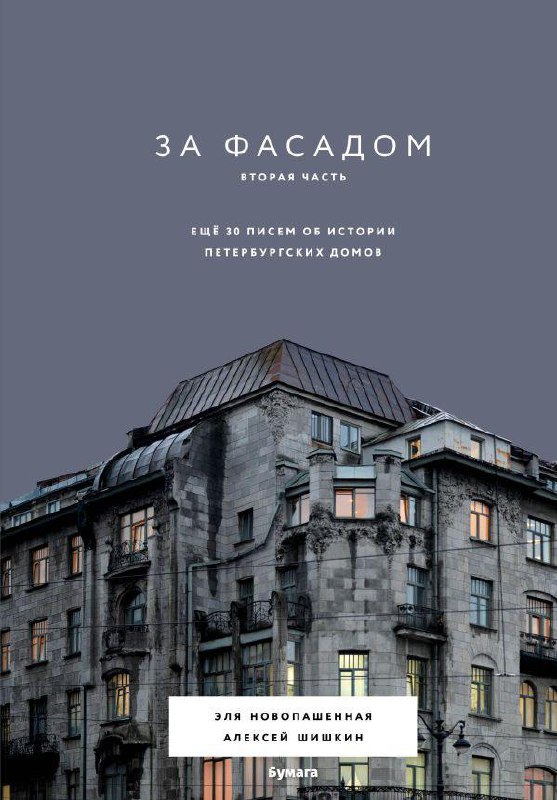Почему литература не смогла предотвратить войны, нищету, чудовищную бюрократию и прочие проблемы?
Я глубоко убежден, что в вопросах мира некомпетентных нет. Здесь у каждого свои представления, каждого это касается; здесь вправе взять слово всякий, кто озабочен проблемой мира, и кто страдал, тот вправе судить, ибо страдание, я полагаю, уже дает достаточные полномочия. Мы не хотим оспаривать компетентности господ специалистов государственного искусства, но оставить лишь за ними одними право действовать в защиту мира мы всё-таки не можем. Исторический опыт заставляет нас настаивать на собственном участии в разговоре, если мы видим, что мир подвержен угрозе; это и означает взять слово; взять же слово - уже значит действовать.А мир подвержен угрозе всё время, он постоянно подтачивается, в большом и малом... Мир всегда будет оставаться целью, ибо, где бы он ни воцарился, он всюду несовершенен. Как писатель я убедился, сколь немного может литература, сколь мало считались и считаются до сих пор с её скромным влиянием. Ничьи перья не смогли склонить к миру воинственных властителей, ничьей силы воображения не хватило, чтоб оказались отменены пытки, ограждены от голодной смерти дети, обеспечены права инакомыслящих.Литература не смогла предотвратить и положения, когда миллионы людей живут за гранью нищеты, когда мы стали пленниками чудовищной бюрократии и когда нам приходится растерянно взирать на умирание нашей планеты. Наконец, литературе не удалось утвердить также власть мощнейшего авторитета, который, по мнению сведущих в проблемах мира, играет наиважнейшую в разрешении конфликтов человеческого разума.***Сила словНет, не так уж далеко мы продвинулись по части реального воздействия литературы: у современного рассказчика, всё ещё находящегося в позиции своего рода вынужденной самозащиты, есть немало причин впасть в уныние, и, подводя итоги своим несостоявшимся надеждам, он должен будет признать, что литература никогда не сможет заменить политику. Перед лицом столь очевидной неэффективности следует, однако, спросить: чем же тогда литература во все времена заслуживала особого внимания власть имущих?Следует задать себе вопрос: почему она навлекала на себя недоверие ни подозрение и в чём причина того, что её история по крайней мере значительной своей части одновременно история её преследований? Считали ли ее способной большее, чем готовы были признать? Что означали при подразумевавшейся неэффективности непрестанные усилия власть имущих привлечь писателей себе на службу и сделать из них льстивых чревовещателей, способных лишь повторять: "В стране царит мир"?Сосланным в резервацию фантазии, нанятым, чтоб заниматься мнимостями, - вот каким бы предпочли видеть писателя. Этакой декоративной рыбкой, чьи возможности ограничены стеклом аквариума, - таким его готовы были терпеть. Литературу всегда либо брали под подозрение, либо старались обезвредить - такая судьба сама по себе говорит о многом. И эта настороженность была, в общем, лишена оснований, ибо хотя литературу и не могла целенаправленно решить насущные современные проблемы, реально осуществить требования дня или навеки утвердить верховенство разума - совсем уж неэффективной она не была.Надо всё-таки признать, что, даже и не изменив реальных условий, она сумела сделать нечто другое: изменить наше отношение к миру. Разоблачая, разъясняя, доводя до сознания, она тем самым оказывала воздействие. Предлагая альтернативы, она призывала все время переосмысливать собственное положение, то есть жить более точно. То и дело обороняясь, литература призывала нас не оставлять мечты о лучшей действительности.Обращаясь всегда к отдельному человеку, она предлагала сравнивать свою судьбу с судьбой других и, если надо, делать из этого сравнения выводы. И именно благодаря этому то есть неконтролируемому диалогу с отдельным человеком власть имущие могли увидеть в ней опасную угрозу. Наконец, литература всегда действовала и как инстанция сберегающая и сохраняющая - как вместилище памяти. А напоминать, и напоминать упорно, иногда уже значит оказывать сопротивление по крайней мере во времена, когда культивируется или даже предписывается забывчивость.Можно ли назвать литературу немирной? Да, она даже обязана быть немирной, ибо существующая действительность просто не оставляет ей другой возможности. Немирность её, очевидно, заключается в способности нарушать насильственно установленный покой, в нежелании мириться с предписанным молчанием, в готовности говорить за тех, кого сделали безгласными. Она становится немирной, чтобы служить лучшему, не обманчивому миру, чтобы напомнить нам, в частности, и о том, что прошлое не кончилось, что, говоря нам одновременно о сущности и о роли человека, оно экзаменует нас и в наши дни. Пожалуй, без такого рода немирности нельзя достичь мира, которого мы столь жаждем. Недопустимо ведь определять мир лишь как отсутствие войны. Определения тоже связаны со своим временем, они ограничивают, обедняют понятия и не учитывают происходящих с ними перемен.Не только возможно, но известно по опыту, что, отвергая по веским причинам войну, мы в тоже время не проявляем готовн

Я глубоко убежден, что в вопросах мира некомпетентных нет. Здесь у каждого свои представления, каждого это касается; здесь вправе взять слово всякий, кто озабочен проблемой мира, и кто страдал, тот вправе судить, ибо страдание, я полагаю, уже дает достаточные полномочия. Мы не хотим оспаривать компетентности господ специалистов государственного искусства, но оставить лишь за ними одними право действовать в защиту мира мы всё-таки не можем. Исторический опыт заставляет нас настаивать на собственном участии в разговоре, если мы видим, что мир подвержен угрозе; это и означает взять слово; взять же слово - уже значит действовать.
А мир подвержен угрозе всё время, он постоянно подтачивается, в большом и малом... Мир всегда будет оставаться целью, ибо, где бы он ни воцарился, он всюду несовершенен. Как писатель я убедился, сколь немного может литература, сколь мало считались и считаются до сих пор с её скромным влиянием. Ничьи перья не смогли склонить к миру воинственных властителей, ничьей силы воображения не хватило, чтоб оказались отменены пытки, ограждены от голодной смерти дети, обеспечены права инакомыслящих.
Литература не смогла предотвратить и положения, когда миллионы людей живут за гранью нищеты, когда мы стали пленниками чудовищной бюрократии и когда нам приходится растерянно взирать на умирание нашей планеты. Наконец, литературе не удалось утвердить также власть мощнейшего авторитета, который, по мнению сведущих в проблемах мира, играет наиважнейшую в разрешении конфликтов человеческого разума.
***
Сила слов
Нет, не так уж далеко мы продвинулись по части реального воздействия литературы: у современного рассказчика, всё ещё находящегося в позиции своего рода вынужденной самозащиты, есть немало причин впасть в уныние, и, подводя итоги своим несостоявшимся надеждам, он должен будет признать, что литература никогда не сможет заменить политику. Перед лицом столь очевидной неэффективности следует, однако, спросить: чем же тогда литература во все времена заслуживала особого внимания власть имущих?
Следует задать себе вопрос: почему она навлекала на себя недоверие ни подозрение и в чём причина того, что её история по крайней мере значительной своей части одновременно история её преследований? Считали ли ее способной большее, чем готовы были признать? Что означали при подразумевавшейся неэффективности непрестанные усилия власть имущих привлечь писателей себе на службу и сделать из них льстивых чревовещателей, способных лишь повторять: "В стране царит мир"?
Сосланным в резервацию фантазии, нанятым, чтоб заниматься мнимостями, - вот каким бы предпочли видеть писателя. Этакой декоративной рыбкой, чьи возможности ограничены стеклом аквариума, - таким его готовы были терпеть. Литературу всегда либо брали под подозрение, либо старались обезвредить - такая судьба сама по себе говорит о многом. И эта настороженность была, в общем, лишена оснований, ибо хотя литературу и не могла целенаправленно решить насущные современные проблемы, реально осуществить требования дня или навеки утвердить верховенство разума - совсем уж неэффективной она не была.
Надо всё-таки признать, что, даже и не изменив реальных условий, она сумела сделать нечто другое: изменить наше отношение к миру. Разоблачая, разъясняя, доводя до сознания, она тем самым оказывала воздействие. Предлагая альтернативы, она призывала все время переосмысливать собственное положение, то есть жить более точно. То и дело обороняясь, литература призывала нас не оставлять мечты о лучшей действительности.
Обращаясь всегда к отдельному человеку, она предлагала сравнивать свою судьбу с судьбой других и, если надо, делать из этого сравнения выводы. И именно благодаря этому то есть неконтролируемому диалогу с отдельным человеком власть имущие могли увидеть в ней опасную угрозу. Наконец, литература всегда действовала и как инстанция сберегающая и сохраняющая - как вместилище памяти. А напоминать, и напоминать упорно, иногда уже значит оказывать сопротивление по крайней мере во времена, когда культивируется или даже предписывается забывчивость.
Можно ли назвать литературу немирной? Да, она даже обязана быть немирной, ибо существующая действительность просто не оставляет ей другой возможности. Немирность её, очевидно, заключается в способности нарушать насильственно установленный покой, в нежелании мириться с предписанным молчанием, в готовности говорить за тех, кого сделали безгласными. Она становится немирной, чтобы служить лучшему, не обманчивому миру, чтобы напомнить нам, в частности, и о том, что прошлое не кончилось, что, говоря нам одновременно о сущности и о роли человека, оно экзаменует нас и в наши дни. Пожалуй, без такого рода немирности нельзя достичь мира, которого мы столь жаждем. Недопустимо ведь определять мир лишь как отсутствие войны. Определения тоже связаны со своим временем, они ограничивают, обедняют понятия и не учитывают происходящих с ними перемен.
Не только возможно, но известно по опыту, что, отвергая по веским причинам войну, мы в тоже время не проявляем готовности к миру в своих общественных и частных делах, в своем отношении к проблемам времени. Не знаю, насколько можно надеяться, что мы когда-нибудь окажемся способными к миру, - болезненное несовершенство того мирного состояния, в котором мы сейчас пребываем, склоняет тут скорей к сомнению. И это сомнение растет, причем не без оснований, поскольку положение дел не позволяет говорить о достигнутом мире разве что о незавершенном. Помимо прекращения огня, заключения соглашений и договоров, это понятие включает в себя ещё кое-что, о чем я и хотел бы напомнить.
Не только со времен шекспировских трагедий мы знаем, как власть борется за свое сохранение и что она ради этого готова: уже классическая древность достаточно много нам об этом поведала. Минувшие времена демонстрируют не только методы устранения смутьянов и соперников, совратителей молодежи и врагов государства, они напоминают, что в словах может таиться опасность. Однажды произнесенные и размноженные, они могут стать оружием и угрозой; в них могут найти выражение лозунги вроде классического требования: больше хлеба, больше справедливости, больше свободы, - и они могут поколебать сами основы государства.
К сожалению, этот опыт отнюдь не стал лишь достоянием истории. Сколь опасными всё ещё кажутся слова, показывает отчет комитета Международного пен-клуба «Writers in Prisons («Писатели в заключении»). Это пока что последний по времени отчет, от июля 1988 года и из него видно, что к этому моменту 305 писателей и журналистов находились в тюрьмах стран, с которыми мы поддерживаем экономические, культурные и даже дружеские отношения, с которыми мы связаны разного рода союзами. Эти 305 мужчин и женщин были заключены тюрьмы, потому что власть имущие не были согласны с тем, как они употребляли слова. Изучая формулировки обвинений, я не был удивлен тому, что чаще всего причиной объявляется «заговор против государства».
В сущности, это означает «бунт против авторитетов», в словах видят вызов руководителям правительства; они распространяют «разрушительные мысли», являются разносчиками «опасной идеологии», вселяют недоверие к декларациям власть имущих и тем самым угрожают миру. Стоит ли говорить, что это за мир? Судя по отчету комитета «Writers in Prison», можно быть осужденным за распространение марксистских идей и можно точно так же оказаться в наши дни за решеткой, если не пожелаешь принять марксистские выводы как непререкаемый катехизис.
Пожалуй, уже ясно: мир между людьми это не пальмовые ветви и не звуки цимбал. Кротость во всех сердцах и счастье, основанное на покорности судьбе, - тоже не цель. Мир, который нам нужен, предполагает и напряжение, и конфликты, и неизбежную долю беспокойства. Он тем надежней, чем лучше способен справиться с нашими противоречиями. Вот почему мы не хотим мира, при котором не будет больше никаких антагонизмов, никаких возражений, никакого противоречия существующему. Возможно, обладателям власти кажется, что, если они думают и говорят за нас, нам этого достаточно. Обещанное нам всем когда-то благоволение во человецех установится лишь тогда, когда будет гарантирована свобода слова для каждого. Она условие мира. Она включает его как составную часть. Она требование...
Пропущенное мимо ушей за две тысячи лет отнюдь не перестало из-за этого звучать и в наши дни: надо похоронить ненависть и отказаться от меча, положить конец тирании и создать условия, когда, как сказано у пророка Амоса, воцарится право и справедливость станет как сильный поток эти древние требования остаются в силе и поныне... Пророки древности наглядно показали нам, какой бывает война с врагом внешним и внутренним; внешний мир находит дополнение мире внутреннем. Что это такое внутренний мир? Может, это «совершенное бытие с собой», о котором говорил когда-то Эрнст Блок.
Может, это осуществление давней потребности идентичности, счастливый конец после трудного поиска самого себя, то есть единение без остатка с собой миром. Внутренний мир: может, он мерцает в улыбке скромности, может, он находит выражение удовлетворенности человека своей работой. Насытившись исполнеными желаниями мы поддаемся чувству, что всё, чего можно было достичь, достигнуто - впереди ничего больше нет, в своих стремлениях мы добрались до места, где царит лишь гармония.
Я полагаю, что внутренний мир всегда останется необходимой отдаленной целью и что, даже если бы он был бы возможен, добиться его было бы труднее, чем мира внешнего, ибо природное состояние человека все-таки заведомо немирное... Не стоит ждать мира, который лишит нас желаний. Понятие мира предполагает, как уже было сказано, больше, чем просто объявление об отказе от насилия. Его можно обозначить и как состояние, в тором существует как право на на надежду для всех, так обязанность отвечать за то, что есть, и за то, что было. Ответственность, говорит Ханс Йонас, означает, что нам что-то доверено.
Быть может, это кто-то ближний, кто-то слабый, заблудший; но может, это и познание, или вода, или собственная история. За доверенное нам мы должны отвечать каких бы испытаний нам это ни стоило Если подходить исторически значит рассматривать событие как завершенный акт, как нечто минувшее пройденное и очищенное от ужаса, такой подход оказывается сомнительным средством исторического познания. Ибо история никогда не бывает завершена, она пронизывает любую современность, она контролирует нас, что что-то нам дает, она смущает, напоминает, и она обязывает нас, заставляя содрогнуться возможностям человека.
Зигфрид Ленц. Из статьи "На грани мира". Перевел с немецкого М. Харитонов. "Литературная газета" 1989
***
Об авторе
Зигфрид Ленц (1926-2014) — автор романа «Урок немецкого», одного из выдающихся произведений литературы ФРГ, давно и прочно занял место в первой десятке западногерманских прозаиков. Творчество писателя хорошо известно и в Советском Союзе. На русский язык, кроме «Урока немецкого», переведены романы «Хлеба и зрелищ», «Живой пример», «Краеведческий музей», сборники новелл «Эйнштейн пересекает Эльбу близ Гамбурга» и «Запах мирабели».
Художник истинно демократический, Зигфрид Ленц всегда утверждал высокое моральное достоинство литературы, отстаивал идеалы гуманизма, жизни без войн, без ненависти и нетерпимости. Недавно Союз германской книготорговли присудил Зигфриду Ленцу премию мира. На торжественной церемонии вручения награды, состоявшейся в Паульскирхе (Франкфурт-на-Майне), писатель выступил с речью, где призвал литературу способствовать утверждению в современном мире принципов нового мышления.