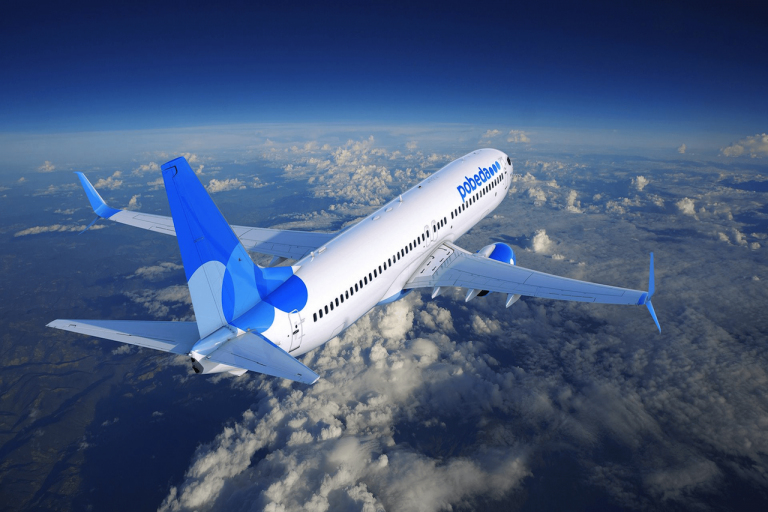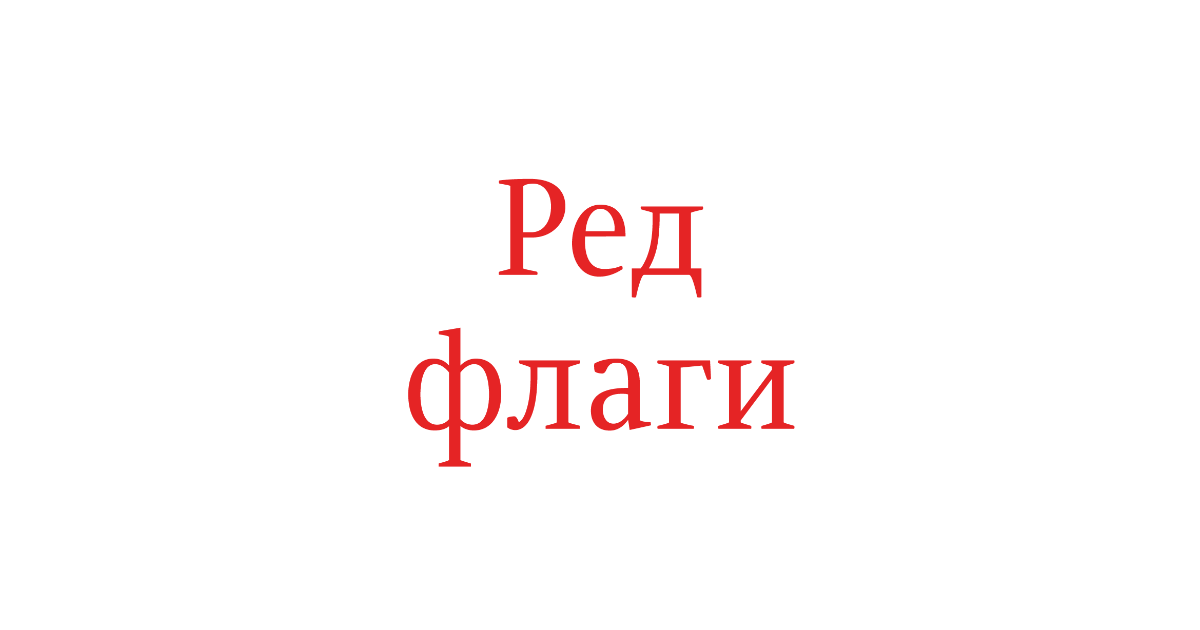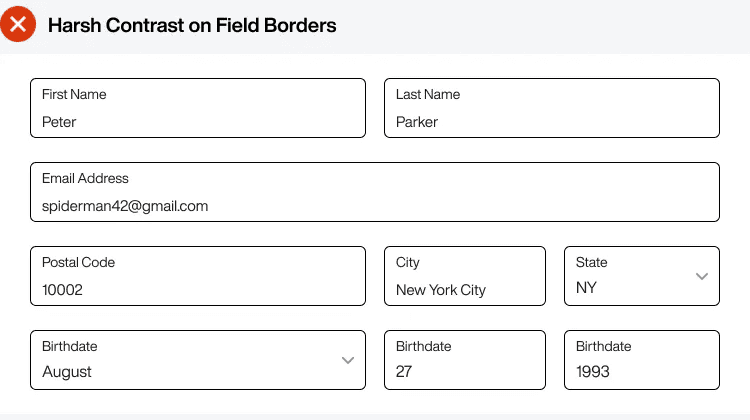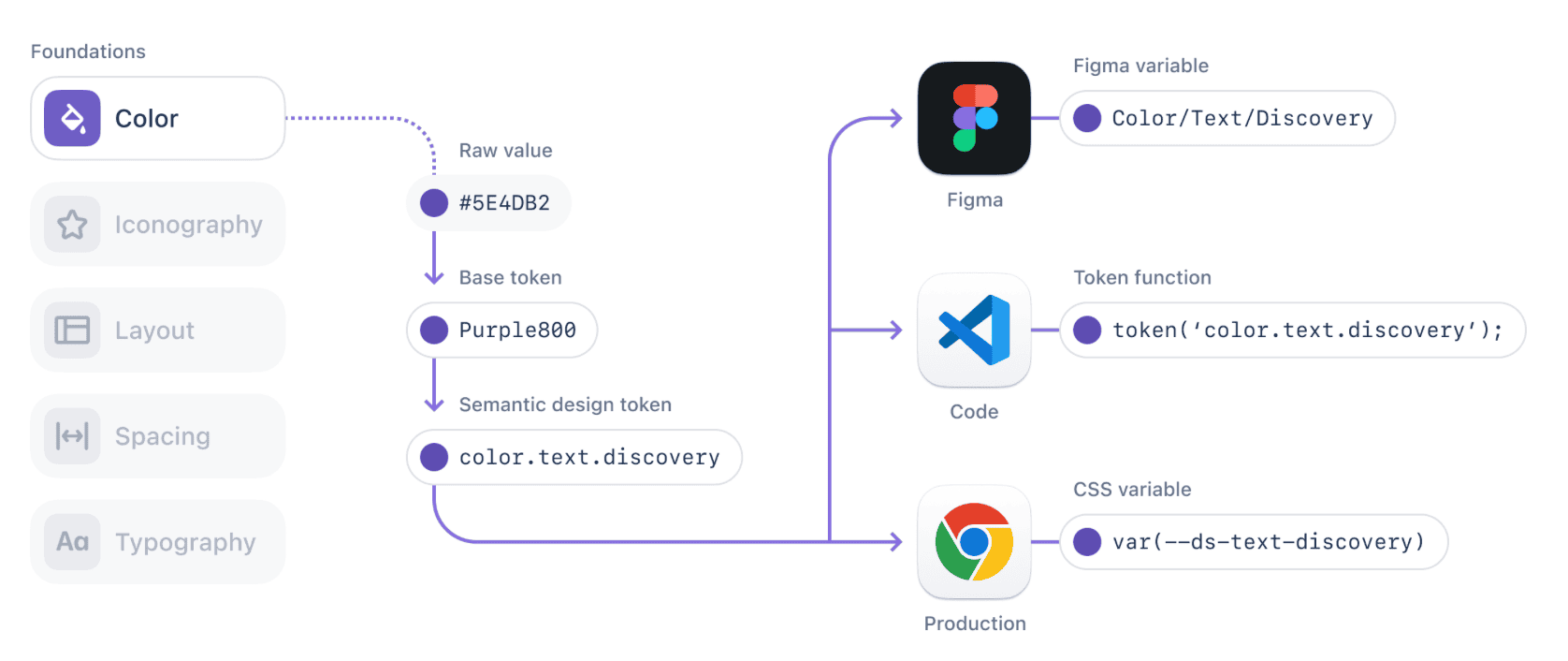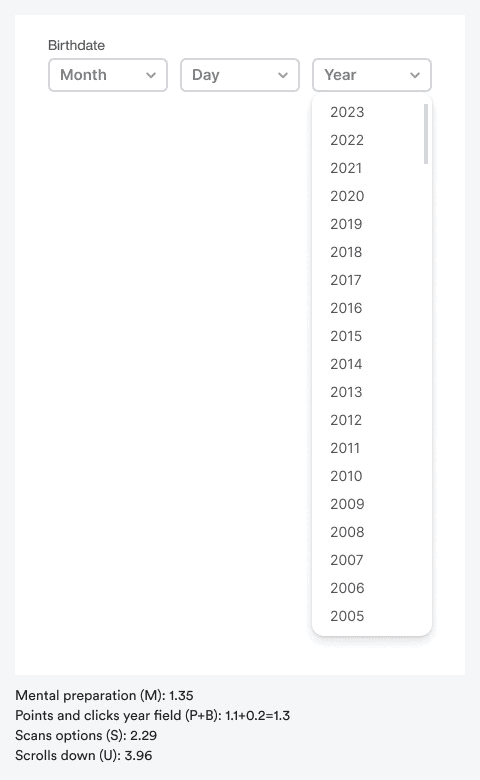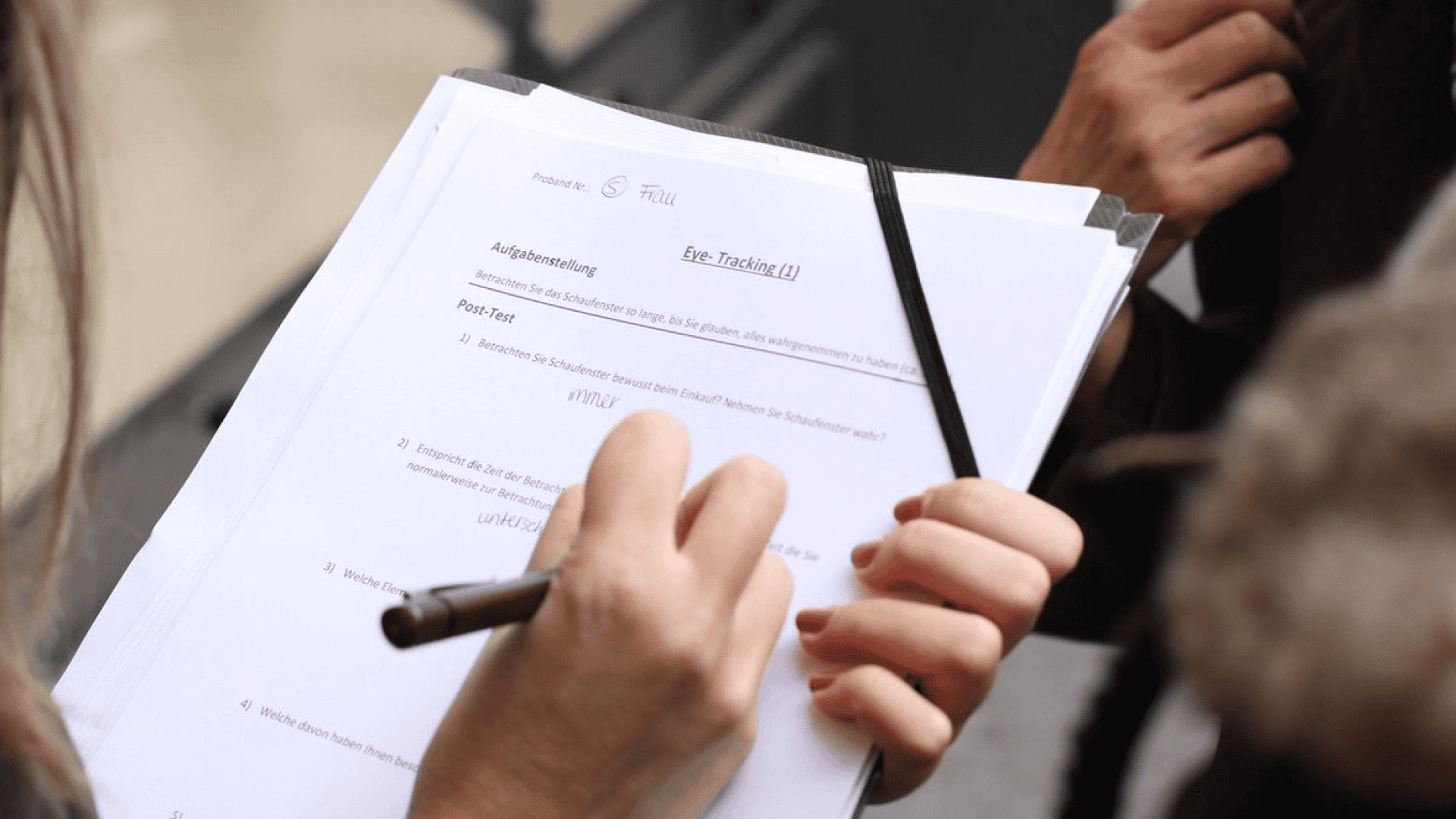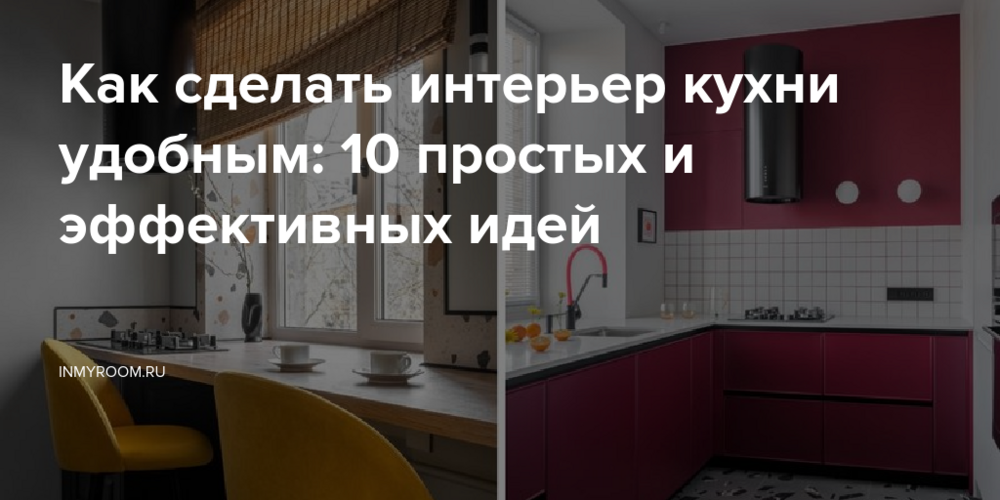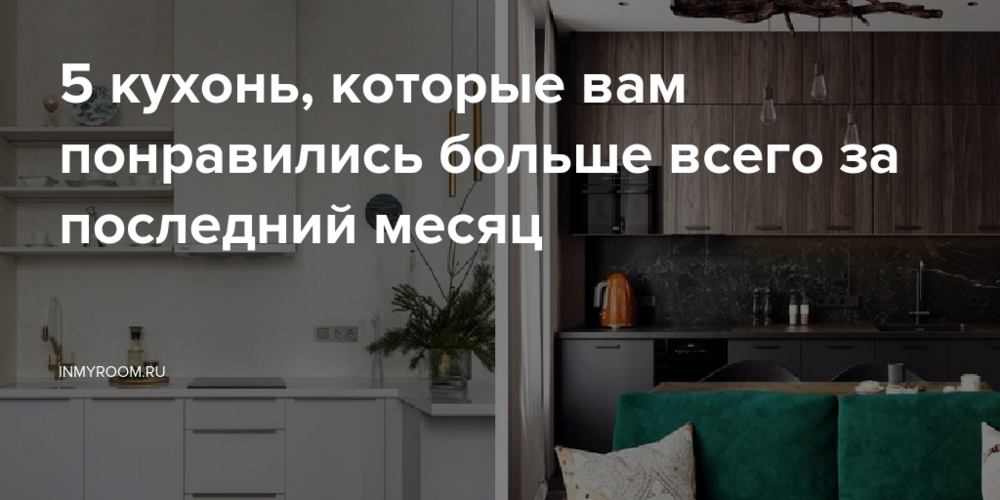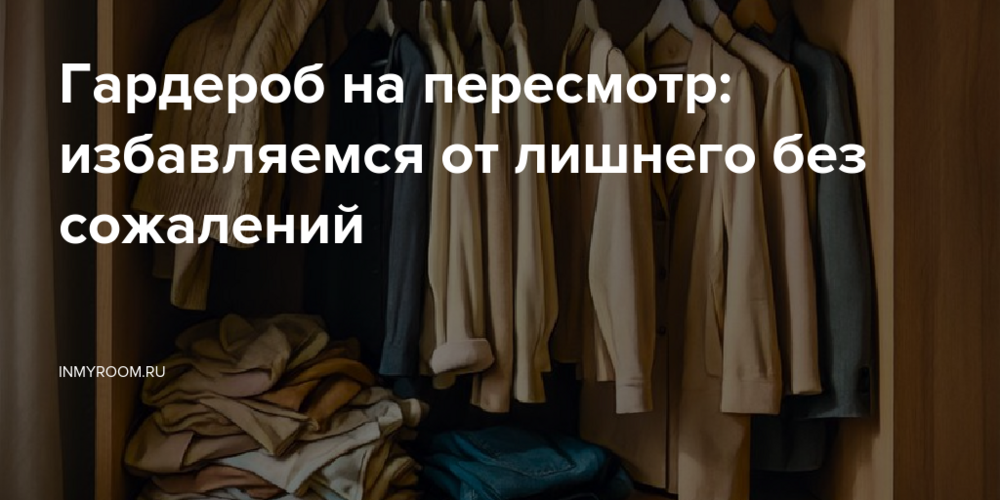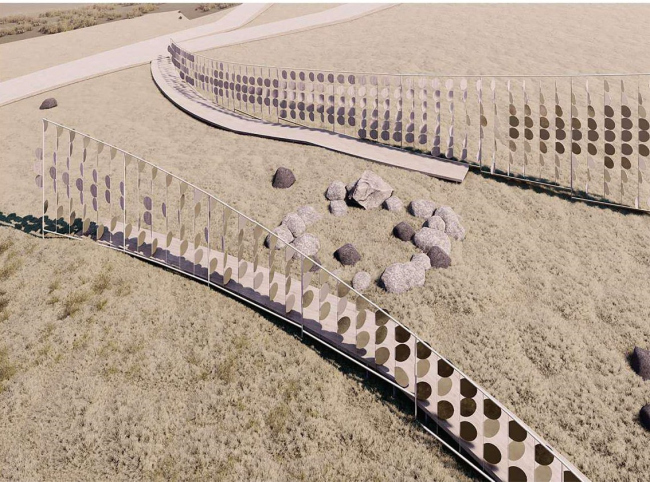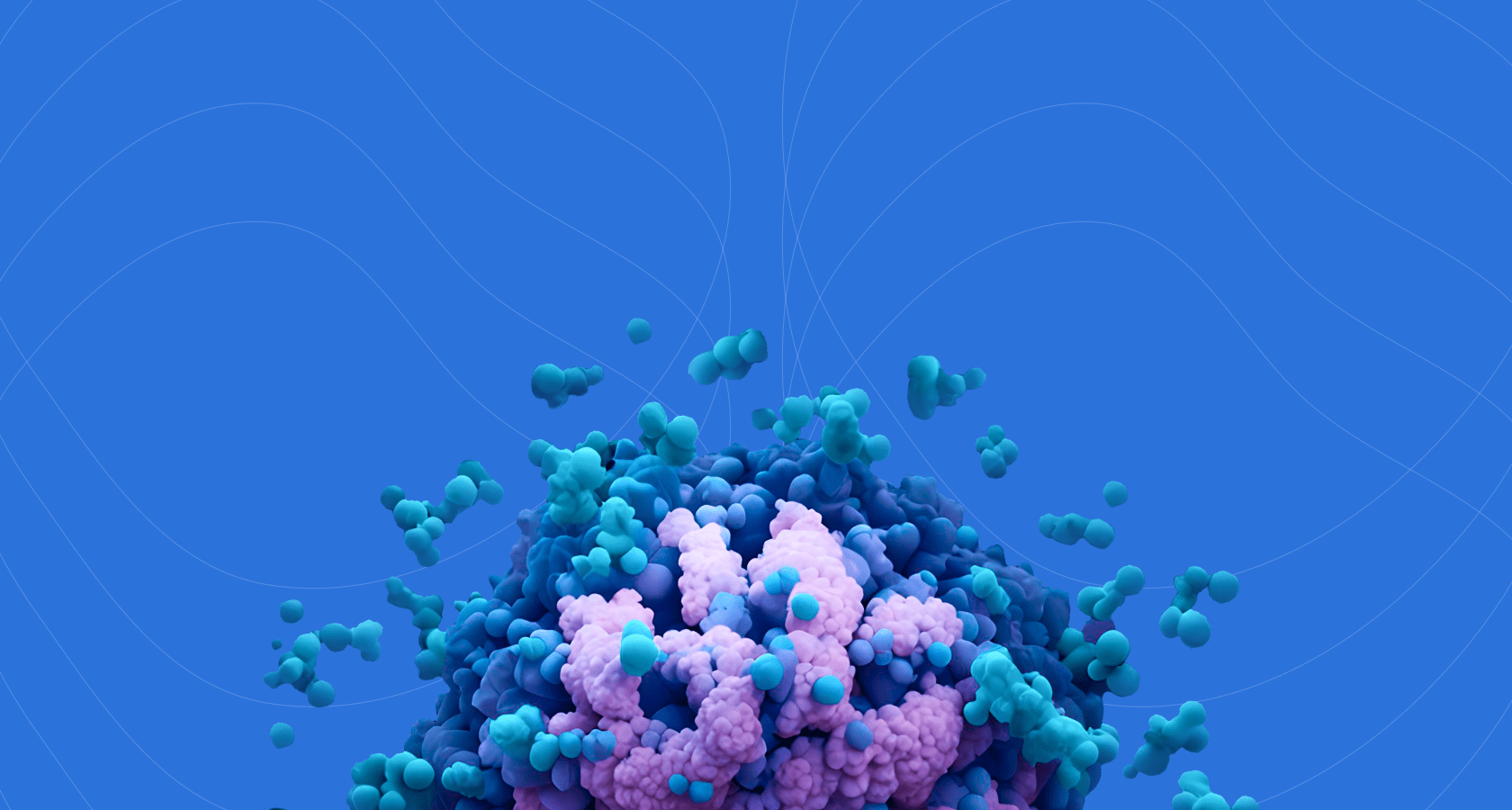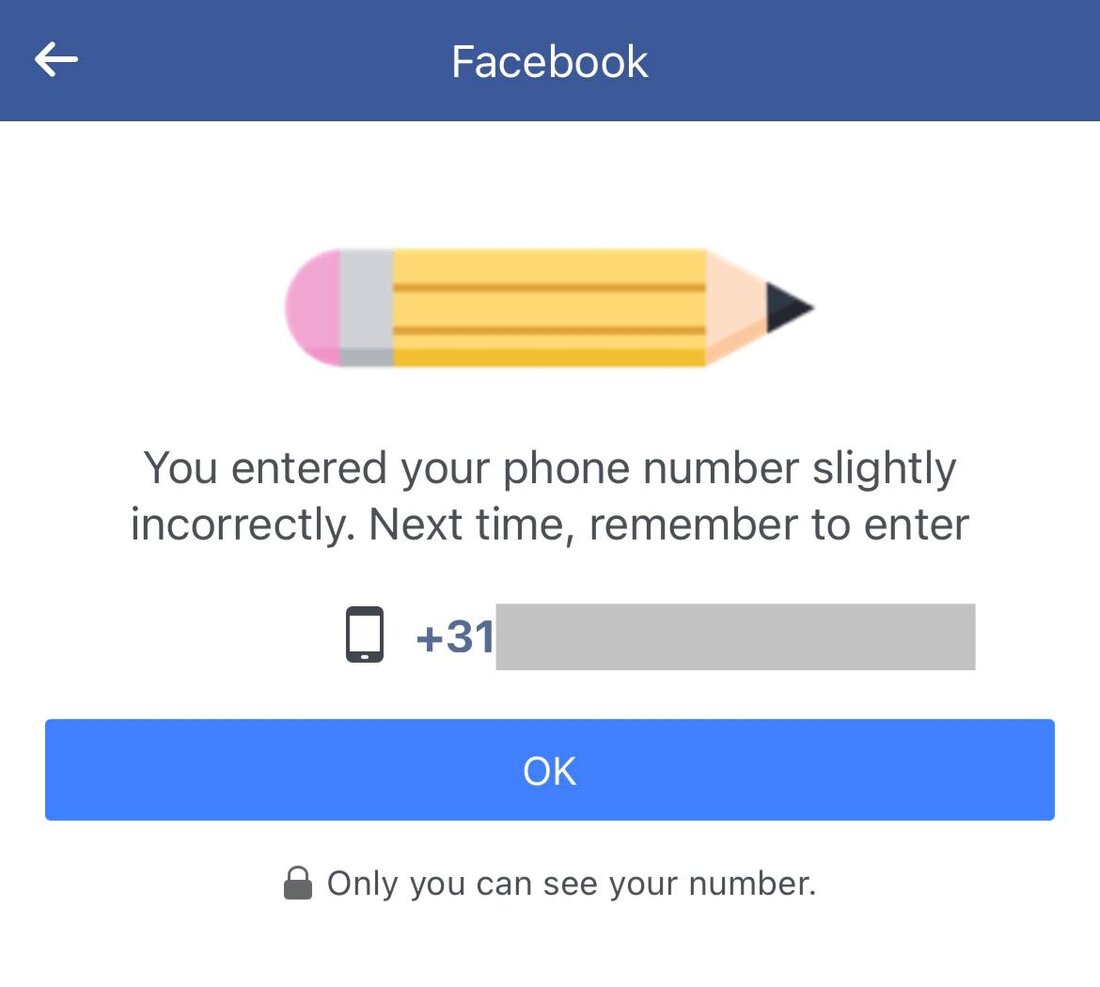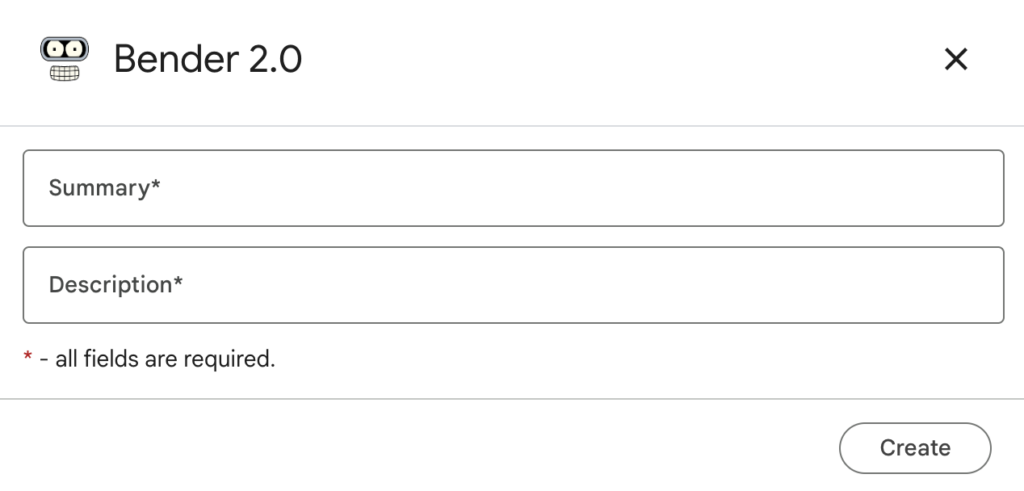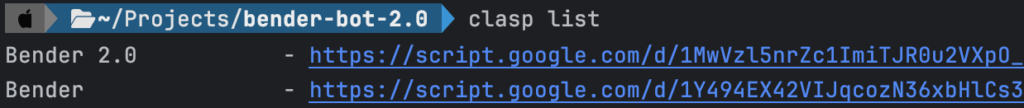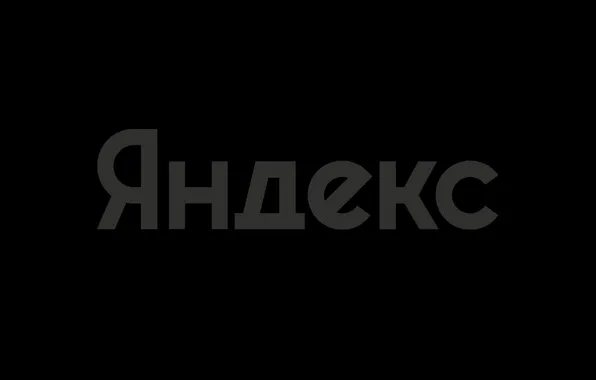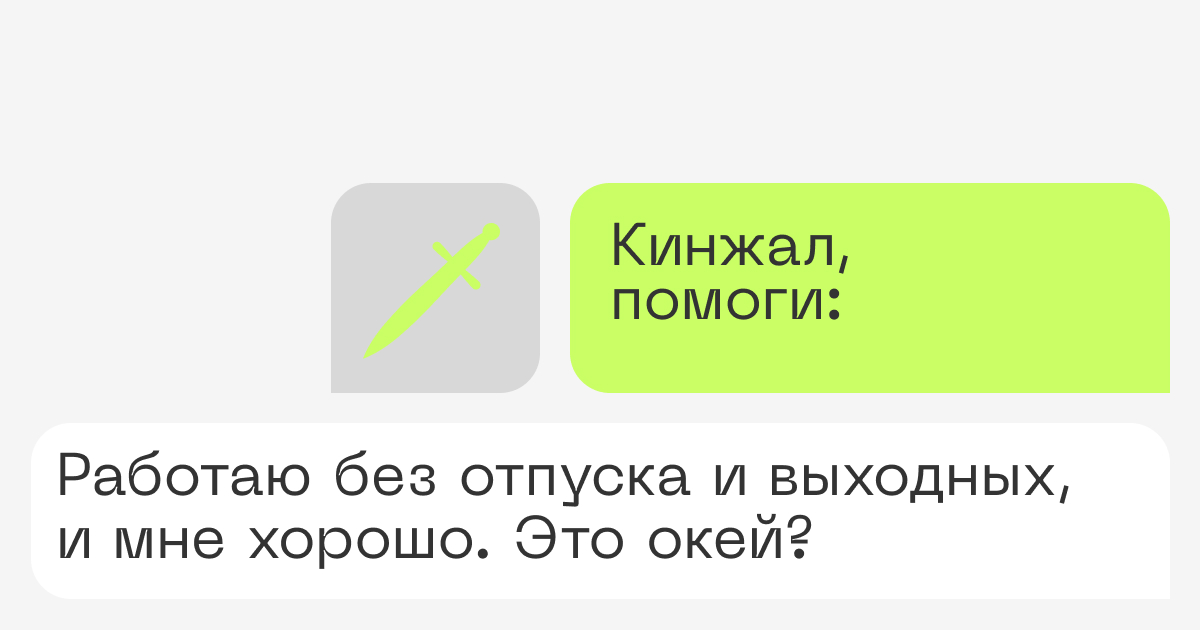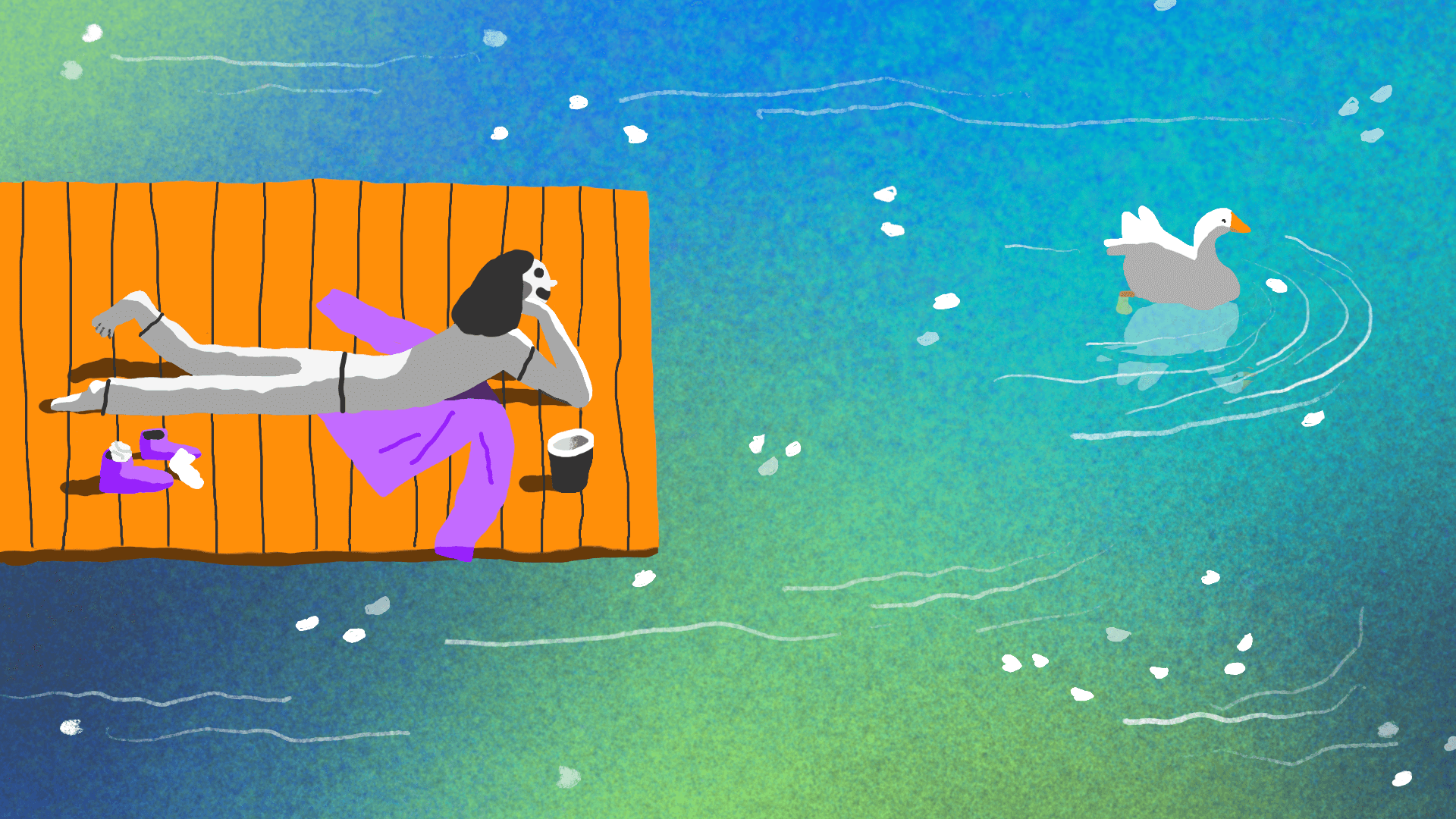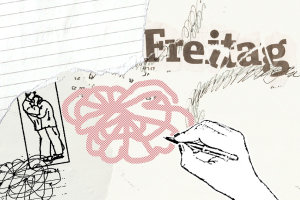Жизнь в большой пещере
Четыре года назад автор этого очерка, уроженец Техаса, прибыл в Нью-Йорк в поисках литературного заработка. Он достоверно передает свои впечатления от жизни в городе «желтого дьявола», лишенной рекламного глянца и буржуазно-пропагандистской лакировки. Можно себе представить, какой безысходной и тяжкой кажется она необеспеченным и забытым слоям нью-йоркского населения.В нашей литературе полно молодых лю дей, которые, подобно мне, приехали в Большую пещеру из провинции, отчаянно стремясь в этот водоворот, издали кажущийся чудом из чудес. В шестидесятые годы нашего века, как, впрочем, и во все прежние годы, начиная с той поры, когда Нью-Йорк стал нашей литературной и журналистской биржей, тысячи таких, как я, суетились вокруг этой гигантской оси книгоиздательств, газет и радиовещания, получая поначалу совершенно ничтожную плату, ютясь в неведомых им дотоле перенаселенных городских кварталах, по два раза на дню втискиваясь в эти ужасные, такие непривычные для провинциала вагоны метро. Большинство этих людей так и не может выкарабкаться на поверхность, однако самым предприимчивым это иногда удается.ОдиночествоСвою первую нью-йоркскую ночь я провел у старого друга из Миссисипи в его тесной квартирке высоко над Вашингтон-сквер. Наутро, встав пораньше, я отправился на поиски работы. Я прошел по Вашингтон-сквер мимо кладбищенски мрачных, похожих на пакгаузы корпусов Нью-йоркского университета, мимо величественных старинных зданий в северной части города, которым позднее суждено было пасть под натиском строителей, мимо высоких жилых домов из красного кирпича, протянувшихся к западу.Потом я сел на скамью и стал наблюдать, как старики играют в шахматы на чугунных столиках, как всякие чудаки и разные стильные ребята собираются кучками то здесь, то там, изображая страшную занятость и не делая ничего. Я сидел и предавался своим безобидным воспоминаниям, как вдруг заметил краешком глаза фигуру, выходившую из-под арки на северной стороне Вашингтон-сквер. Провалиться мне на месте, если это был не он, не мистер Демент Уоррен, державший во времена моего детства магазин мужской одежды на углу улиц Джефферсона и Мэйн в городке Язу-сити, штат Миссисипи.Я поднялся, чтобы поздороваться с ним, и тут увидел, что это был вовсе не мистер Демент Уоррен, а просто огромного роста лысеющий человек в слишком теплом, не по сезону пальто. А еще через несколько минут все повторилось. Возле фонтана я увидел не больше, не меньше, как саму Ирлин Унтт, изящную и стройную королеву красоты Техасского университета за 1955 год. Но это была не Ирлин - просто крупная блондинка деревенского вида, которая вывела на прогулку свою собаку.На протяжении последующих пятнадцати минут я обнаружил ещё четверых, которых знавал когда-то - «япошку», старого желтого негра, который убирал наш школьный двор: члена Американского легиона Э. Дж. Ривза по прозвищу «Дружище», который, бывало, ходил вместе с нами в Язу-сити подрабатывать на военных похоронах; Биба Фока техасского тренера по бейсболу, и, наконец, Уолласа Миллера - толстого консерватора, заседавшего в техасских законодательных учреждениях.И все они были призраки! Они были первыми, с них и началось то, что стало особенностью моего зрения B Нью-Йорке. Позднее я привык к этому странному действию, которое производила на меня «пещера», и даже научился получать от него удовольствие, но в тот день оно показалось мне очень странным. Меня даже пугало, что мое разыгравшееся не на шутку воображение, блуждая среди покинутых мною мест, порождает сейчас, в этом чужом и безразличном ко всему городе, призраки столь зримые и осязаемые, что само настоящее начинает казаться неосязаемым, несущественным и призрачным. Так в угарном дыму автомобильных выхлопов, среди городского мусора я вернулся вдруг в кишащую миражами страну своего детства.Я нашел себе квартиру на 20-й стрит, между Мэдисон и Парк-авеню. Все другие квартиры (невдалеке от парков), которые я осмотрел и которые понравились мне, стоили не меньше 250 или 300 долларов в месяц. Моя квартира на 4-м этаже узкого серого здания рядом со стоянкой автомашин обходилась только в 125 долларов. На испещренном буграми и щелями фасаде нашего дома кто-то намалевал белой эмалью «Герцогский». Здание это поражало всякого прохожего своей шаткостью и искривленностью; казалось, что оно вообще уже не может служить никаким практическим целям. Оно торчало слева от стоянки, тощее, длинное и нелепое.«Этот шумный перенаселенный город, почти начисто лишенный природы, насыщенный дымом и туманами, лишенный пространства и растительности, вызывает некое притупление чувств». «Интернэшнл геральд трибюн», ПарижЧеловек человеку никтоМне не удалось найти по доступной цене квартиру, из окон которой открывался бы вид на какой-либо приличный водоём. Зато из нашего окна открывался вид на расположенный всего в каких-нибудь сорока метрах огромный чан, который принадлежал предприятию, разместившемуся в нижних этажах этого здания. В чане все время бурлила какая-то непонятная зеленоватая жидкость. Из этого же окна

Четыре года назад автор этого очерка, уроженец Техаса, прибыл в Нью-Йорк в поисках литературного заработка. Он достоверно передает свои впечатления от жизни в городе «желтого дьявола», лишенной рекламного глянца и буржуазно-пропагандистской лакировки. Можно себе представить, какой безысходной и тяжкой кажется она необеспеченным и забытым слоям нью-йоркского населения.
В нашей литературе полно молодых лю дей, которые, подобно мне, приехали в Большую пещеру из провинции, отчаянно стремясь в этот водоворот, издали кажущийся чудом из чудес. В шестидесятые годы нашего века, как, впрочем, и во все прежние годы, начиная с той поры, когда Нью-Йорк стал нашей литературной и журналистской биржей, тысячи таких, как я, суетились вокруг этой гигантской оси книгоиздательств, газет и радиовещания, получая поначалу совершенно ничтожную плату, ютясь в неведомых им дотоле перенаселенных городских кварталах, по два раза на дню втискиваясь в эти ужасные, такие непривычные для провинциала вагоны метро. Большинство этих людей так и не может выкарабкаться на поверхность, однако самым предприимчивым это иногда удается.
Одиночество
Свою первую нью-йоркскую ночь я провел у старого друга из Миссисипи в его тесной квартирке высоко над Вашингтон-сквер. Наутро, встав пораньше, я отправился на поиски работы. Я прошел по Вашингтон-сквер мимо кладбищенски мрачных, похожих на пакгаузы корпусов Нью-йоркского университета, мимо величественных старинных зданий в северной части города, которым позднее суждено было пасть под натиском строителей, мимо высоких жилых домов из красного кирпича, протянувшихся к западу.
Потом я сел на скамью и стал наблюдать, как старики играют в шахматы на чугунных столиках, как всякие чудаки и разные стильные ребята собираются кучками то здесь, то там, изображая страшную занятость и не делая ничего. Я сидел и предавался своим безобидным воспоминаниям, как вдруг заметил краешком глаза фигуру, выходившую из-под арки на северной стороне Вашингтон-сквер. Провалиться мне на месте, если это был не он, не мистер Демент Уоррен, державший во времена моего детства магазин мужской одежды на углу улиц Джефферсона и Мэйн в городке Язу-сити, штат Миссисипи.
Я поднялся, чтобы поздороваться с ним, и тут увидел, что это был вовсе не мистер Демент Уоррен, а просто огромного роста лысеющий человек в слишком теплом, не по сезону пальто. А еще через несколько минут все повторилось. Возле фонтана я увидел не больше, не меньше, как саму Ирлин Унтт, изящную и стройную королеву красоты Техасского университета за 1955 год. Но это была не Ирлин - просто крупная блондинка деревенского вида, которая вывела на прогулку свою собаку.
На протяжении последующих пятнадцати минут я обнаружил ещё четверых, которых знавал когда-то - «япошку», старого желтого негра, который убирал наш школьный двор: члена Американского легиона Э. Дж. Ривза по прозвищу «Дружище», который, бывало, ходил вместе с нами в Язу-сити подрабатывать на военных похоронах; Биба Фока техасского тренера по бейсболу, и, наконец, Уолласа Миллера - толстого консерватора, заседавшего в техасских законодательных учреждениях.
И все они были призраки! Они были первыми, с них и началось то, что стало особенностью моего зрения B Нью-Йорке. Позднее я привык к этому странному действию, которое производила на меня «пещера», и даже научился получать от него удовольствие, но в тот день оно показалось мне очень странным. Меня даже пугало, что мое разыгравшееся не на шутку воображение, блуждая среди покинутых мною мест, порождает сейчас, в этом чужом и безразличном ко всему городе, призраки столь зримые и осязаемые, что само настоящее начинает казаться неосязаемым, несущественным и призрачным. Так в угарном дыму автомобильных выхлопов, среди городского мусора я вернулся вдруг в кишащую миражами страну своего детства.
Я нашел себе квартиру на 20-й стрит, между Мэдисон и Парк-авеню. Все другие квартиры (невдалеке от парков), которые я осмотрел и которые понравились мне, стоили не меньше 250 или 300 долларов в месяц. Моя квартира на 4-м этаже узкого серого здания рядом со стоянкой автомашин обходилась только в 125 долларов. На испещренном буграми и щелями фасаде нашего дома кто-то намалевал белой эмалью «Герцогский». Здание это поражало всякого прохожего своей шаткостью и искривленностью; казалось, что оно вообще уже не может служить никаким практическим целям. Оно торчало слева от стоянки, тощее, длинное и нелепое.

«Этот шумный перенаселенный город, почти начисто лишенный природы, насыщенный дымом и туманами, лишенный пространства и растительности, вызывает некое притупление чувств». «Интернэшнл геральд трибюн», Париж
Мне не удалось найти по доступной цене квартиру, из окон которой открывался бы вид на какой-либо приличный водоём. Зато из нашего окна открывался вид на расположенный всего в каких-нибудь сорока метрах огромный чан, который принадлежал предприятию, разместившемуся в нижних этажах этого здания. В чане все время бурлила какая-то непонятная зеленоватая жидкость. Из этого же окна видны были залитые гудроном крыши соседних домов, а справа - клочок голой земли. Это и была упомянутая выше стоянка автомобилей.
В погожий денек мне нравилось прокладывать себе путь через бурлящую толпу на тротуарах. Но когда утро выдавалось хмурое и туманное, а из люков канализации вырывались дымки, словно сама земля горела под нами, город вызывал у меня такое же жутковатое ощущение, как могила: мы были заперты здесь, без света и воздуха, стиснуты бесконечными бегов ными и асфальтовыми стенами. Гудки автомобилей, прокдитня циферов, жесткое упорство уличных рабочих. ух рабочих, ухитрявшихся проскочить в уже довольно плотном потоке мации, все это только усиливало ощущение, что человечество здесь находится в состояния постоянной войны с машинами и с самим собой.
Проделывая в течение го да этот путь семь кварталов туда и семь обратно, я стал свидетелем того, как трое были раздавлены насмерть, а четверо тяжело ранены. Самым подходящим для нанесения увечий местом был очень странный перекресток Парк-авеню в 33-й стрит. Здесь был расположен туннель, который возникал совершенно неожиданно, непонятно откуда. Машины выскакивали на него на страшной скорости и сшибали пешеходов, переходивших Парк-авеню при красном свете. Не было даже никакого знака, указывавшего на существование этого туннеля, и это придавало дополнительный риск такому предприятию, как хождение по улице.
Много раз, возвращаясь с работы, в становился свидетелем того, как человек, не ведавший ни о чем, решается перейти здесь улицу при красном свете и замирает в ужасе, увидев, что машины устремляются из туннеля прямо на него. Он замирает здесь на краткий миг, словно завороженный зрелищем мчащейся прямо на него машины, и в такое мгновение зрителя неизменно до дрожи поражает жуткий контраст между смятенной, такой хрупкой плотью и жесткой хромированной сталью. Потом внезапно срабатывает человеческий рефлекс, и прохожий бросается в одну, а затем и в другую сторону, словно хватаясь руками за воздух, и зачастую машина проскакивает, можно сказать, впритирку, так близко, что задевает пиджак или край галстука пешехода. И если идущая сзади машина не добьет его, пешеход еще будет стоять там мгновение без кровинки в лице, даже не слыша проклятий шофера из машины, промчавшейся мимо.
Однажды, ощутив сострадание к человеку, которого чуть не сшибла машина, я бросился за ним через улицу, чтобы подбодрить его немного. Поравнявшись с ним на углу 32-й стрит, я сказал: «Великолепные были прыжки, сэр! Для человека вашей комплекции просто блестяще.
Он взглянул на меня пустым, бессмысленным взглядом и, словно в трансе, механически побрел и ближайшему бару.

Было что-то ужасное и в самом старике и в отзвуках его резкого, скрипучего голоса, отраженного стенами огромных зданий. Его разоблачения казались такими же абсурдными и безжалостными, как сам этот город с его безумным потоком машин и людей.
Другим привидением наших мест была женщина лет шестидесяти, древний, изможденный призрак, появлявшийся на своём месте с точностью часового механизма. Она была наркоманка, и каждый день с трех до пяти пополудни она проходила по улицам, возбужденно выкрикивая какую-то тарабарщину и производя при этом слишком много шума для такой тощей и старой женщины. Я видел однажды, как евангелист и наркоманка столкнулись на улице и стали кричать друг на друга, как смертельные враги, а потом старик заковылял прочь, бормоча в свой мегафон: «Обречена! Проклята!»
Крики женщины были куда более пронзительными, чем крики мужчины, потому что она сама разжигала себя собственными криками и ещё потому, что она действовала по какому-то непостижимому расписанию, с точностью являясь ежедневно Бог знает откуда для осуществления своих неведомых целей. У обоих не было никого на свете, и никто не обращал на них никакого внимания. И если не считать случаев, когда их начинали дразнить соседские ребятишки, люди эти были совершенно выключены из общества, существовали сами по себе.
Дома, в квартире, сын мой ползал по большой комнате, изучая новые пределы своего мира. Взять его на прогулку было некуда. Мэдисон сквер парк, ближайший уголок живой земли в окрестностях, был идеальным местом для того, чтобы понаблюдать за стариками и пьяницами, спящими под кустом, но вовсе не подходящая прибежищем для трехлетнего ребенка. В конце концов я приспособился играть с сыном на стоянке автомашин: я бросал теннисный мячик о стену дома и ждал, пока он упадет на землю, и так мы играли до того теплого осеннего вечера, когда вышел владелец стоянки и сказал мне: «Ты чего, вывески, что ли, не видишь: там сказано «частная собственность». А если ты читать не могешь, тогда тебе надо это, в школу обратно идти».
Как-то на третий месяц жизни в Нью-Йорке мы решили собрать на коктейль некоторых моих коллег из «Харперса»: нескольких редакторов, одного-двух писателей и нескольких репортеров. В день вечеринки я заметил, что мусор на площадке у нашей двери не убран. Там скопились от бросы за три или четыре дня, яичная скорлупа и очистки от помидоров рассыпались по полу, кофейная гуща выползла из пакетов. Я позвонил хозяину. До шести, однако, никто не пришел. Я пошел в лавочку на Лексингтон-авеню и взял там две большие картонные коробки. Потом я сложил в них мусор и тайком запихнул эти коробки под «крайслер» на стоянке автомашин.

В кафе было всегда битком народу, даже в ранние утренние часы, таксисты, шоферы грузовиков, разносчики газет, пьяницы, которые забрели выпить чашечку кофе, - всё ночная публика. Это было неприятное и вечно переполненное заведение, где нечего было ожидать даже малейших проявлений вежливости: грубая, лишенная уважения к человеку забегаловка, где всегда можно было столк нуться с мелочной жестокостью и тайным насилием. Люди в накрахмаленных куртках, стоящие за стойкой, кричали тем, кто стоял в очереди: «А ну, двигайся, двигайcя! Тебе чего? Ты что, ночь тут простоишь? Поскорей, поскорей, выбирай же, чтоб тебе...»
Хозяин кафе, он же мой домохозяин, был огромный пузатый мужчина с копной седых волос: голос у него был скрипучий, какой-то лягушачий. Он заходил то в кафе, то в скобяную лавочку по соседству, не меняя своей белой накрахмаленной, похожей на больничную сорочку, даже носки и туфли у у него него были белые. Сыновья его, обоим было за тридцать, носившие точно такую же униформу, также наблюдали время от времени за тем, как кормят в этой забегаловие бродяг и налек. Они через весь зал выкрикивали приказания официантам или просто стояли в углу, скрестив руки. Несколько раз в месяц я заходил в кафе, чтобы занести чек в уплату за квартиру или пожаловаться на плохое обслуживание в нашем доме на Тридцать шестой.
У старика был крошечный кабинет за обитой дверью в скобяной лавочке, примыкавшей к кафе. Возле двери была кнопка звонка, и, когда я нажимал нажимал на неё, из-за двери слышался голос: «Кого ещё принесло?»
Я называл себя, и тогда он у себя внутри нажимал кнопку, автоматически отпирая мне дверь.
«Вот вам плата за квартиру номер три», говорная, протягивая ему чек. Он брал его его, почти не поднимая глаз и бормоча: «Ага, ладно, ладно, ни разу не сказав при этом ни одной любезности, не поздоровавшись и не попрощавшись, он возвращался к своим бумажкам.
Жалоб у меня, однако, накапливалось всё больше. Дворники его по три, по четыре дня не убирали мусор с площадки. Система отопления в нашем доме регулировалась из кафе, и когда наступили холода, дом наш иногда не отапливали вообще. Другие жильцы, молоденькая немка и художник-японец, с трудом объяснявшийся по-английски, были слишком запуганы, чтобы жаловаться; пожив здесь некоторое время, они стали со страхом относиться и хозяину и его сыновьям. Я же всё настойчирее звонил хозяину и всё чаще заходил к нему. Часто приходилось звонить три или четыре раза, прежде чем они включали отопление.
Хозяни и оба его отпрыска жалобы мои выслушивали с раздражением в нетерпением. Я знавал в Миссисипи темных, захолустных провинциалов, видывал отцеубийц, матереубийц и даже убийц собственных бабушек, вечных студентов и дураков-спортсменов, которые могли засветить вам чем-нибудь по голове, но мне никогда не доводилось встречать людей, в которых было так мало человеческого. Как-то в одно зимнее воскресенье столбик термометра у нас в квартире упал до 42 по Фаренгейту (5°C) . В десять утра я позвонил в кафе в первый раз. Я звонил четыре раза, и всё бесполезно. Наконец, я бросился вниз в кафе и спросил, где тут хозяин и его парни. Их не было. Я нашел его помощника и загнал его в угол.
«Я хочу, чтоб вы включили нагреватель!» - заорал и ему.
«А мы до него добраться не можем!» - заорал он в ответ.
Тогда и вернулся в квартиру и позвонил хозяину домой. «Ты мне надоел со своим вонючим нытьем, слышь, ты, сопляк?» сказал он и повесил трубку. Назавтра я дал объявление в «Таймс» о передаче квартиры в новые ру ки. Через три часа явился новый съемщик, я нашел новую квартиру и переехал.
Огромные конторские здания, переполненные лифты и эскалаторы, нуда пробираешься, работал локтями в толпе, онна домов, за которыми видны лишь другие здания, такие же громоздние и безликие, все это было частицей жизни, неведомой мне доселе, лишенной связи с землей, оторванной от всех истоков. В серые дождливые дни в пору зимнего равноденствия, когда солнце начинало садиться еще до полудня, а ветер грохотал наличниками окон, кабинет мой начинал казаться камерой, за пределами которой совсем неподалеку должно существовать хотя бы открытое пространство.

В дальнем конце туннеля в кромешной тьме начинает вспыхивать и мигать прожектор экспресса, потом на нас обрушиваются страшный грохот поезда и скрежет тормозов. Толпа на перроне ждет, пока пассажиры выйдут из вагона; тогда единая плот ная масса человеческой плоти начинает протискиваться в двери, возникает нечто похожее на свайну во время матча по английскому регби, только гораздо более обширное по масштабам, более пестрое и менее спортивное. На станции установлены громкоговорители, и голос дежурного поторапливает: «А ну, поживее, ребята, поли нее». И после паузы: «А ну-ка вытащи свою руку из двери, дружище» или «Вытащи ногу, подруга!»
Однажды я все пятнадцать минут рассматривал очень любопытную бородавку под носом соседа, в каких-нибудь десяти сантиметрах от своего глаза странную желтую бородавку, которая могла бы сильно выиграть от применения препарата Аш. А зачастую я просто закрывал глаза и представлял себе зеленый весенний луг, пустынные просторы Западного Техаса, а то и летнюю грозу на Пятимильном озере в Язу. В эти часы на лицах нью-йоркцев появляется зна комое и неизменное выражение. Это «вагонная поволока» во взгляде глаза пассажиров широко открыты, по они ничего не видят, человек выключается, и это тре бует от него большой практики и незауряд ной силы воли.
А поезд ревет, качается из стороны в сторону и швыряет пассажи ров друг на друга, вдруг смешивая их в многонациональную кучу малу. Соседство человеческой плоти здесь такое тесное, что даже страшно, как бы чох или какой-нибудь опасный кашель не породил городскую эпидемию, подобную моровой язве. Я часто думал, что было бы, если б Джон Дони проехался в экспрессе до Седьмой авеню в часы «пик», прежде чем писать об островах, рифах, мысах и звоне склянок. И главное, что я обнаружил во время этих утренних поездок на службу, это то, что они пробуждают в человеке древнюю, скрытую в нем и сдерживаемую враждеб пость по отношению к людям другой ра сы неизбежная борьба эта, если уж говорить откровенно, требует от человека использования всех средств, которыми вооружила его цивилизация.
Как-то утром пассажиров у 49-й стрит набилось больше, чем обычно. Я не смог даже ухватиться за ручку и стоял стиснутый толпой, отдавшись на милость её движению. Между 94-й и 72-й поезд вдруг дернулся, и я почувствовал, что падаю на пассажиров. Я инстинктивно схватился за что-то, и это что-то оказалось рукой негра, стоявшего рядом, он был примерно моего возраста. Когда поезд снова выровнял ход. я, заговорив вдруг снова с миссисипским акцентом, что всегда бывает у меня в трудную минуту, попросив прощения у этого человека.
Он холодно взглянул на меня, а потом усмехнулся.
- Простите, - сказал я, мне просто не за что было ухватиться. Что за чертова жизнь!
- А в тех, откуда ты приехал с этим босяцним акцентом.
Мы молча взглянули друг на друга, два сына Юга, стиснутые в экспрессе подземки. В конце концов, ощущая какое-то чувство стыда и собственной вины, я, дождавшись остановки, стал продираться и выходу и очутился на пыльной, залитой слепящим светом платформе метро.
Уилли Моррис. «Харперс мэгэзин», Нью-Йорк. "За рубежом", 1967